 новости
новости
 объявления
объявления
19 октября 2024 года в Свято Успенском Космо - Яхромском монастыре с. Небылое состоялось заседание монашеской секции X Епархиальных Рождественских чтений Александровской епархии.
Предлагаем вам ознакомиться с Докладом, который был представлен на секции насельником нашей обители - священноиноком Венедиктом (Кочергиным).
_________________
ПРЕПОДОБНЫЙ АЛЕКСИЙ ЗОСИМОВСКИЙ НА ПОМЕСТНОМ СОБОРЕ 1917 ГОДА.
 В начале 20 века Россия, отзываясь на вызовы времени и пытаясь разрешить критическое количество противоречий, накопившееся как внутри, в обществе, так и вне, в отношениях с иностранными державами, претерпевала постоянные трансформации и проходила через ряд кризисов. Положительные изменения в основной своей массе имели довольно трагичную цену: стране пришлось пережить в начале века три революции, войну, ряд локальных восстаний и тотальное противостояние социальных групп, вылившееся в итоге в гражданскую войну. Новая Россия рождалась в муках. Церковь, как часть общества, также не оставалась в стороне и должна была соответствовать постоянно изменяющимся условиям, как вода, переливаемая в сосуд другой формы.
В начале 20 века Россия, отзываясь на вызовы времени и пытаясь разрешить критическое количество противоречий, накопившееся как внутри, в обществе, так и вне, в отношениях с иностранными державами, претерпевала постоянные трансформации и проходила через ряд кризисов. Положительные изменения в основной своей массе имели довольно трагичную цену: стране пришлось пережить в начале века три революции, войну, ряд локальных восстаний и тотальное противостояние социальных групп, вылившееся в итоге в гражданскую войну. Новая Россия рождалась в муках. Церковь, как часть общества, также не оставалась в стороне и должна была соответствовать постоянно изменяющимся условиям, как вода, переливаемая в сосуд другой формы.
О необходимости изменений в управлении, в самой организации церковной жизни, которая была кардинально ограничена светским чиновничеством, фактически и управлявшим Церковью, в среде духовенства интеллигенции и простого народа, речи велись довольно давно. Публиковались открытые письма, собирались локальные кружки, ярчайшим из которых являлись т.н. «Религиозно-философские собрания» под председательством Ректора Санкт-Петербургской духовной академии митрополита Сергия (Старогородского), которые проводились с дозволения обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева и митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония (Вадковского), Первенствующего члена Священного Синода. На них очерчивались контуры изменений, которые назрели уже давно, и формулировались вопросы, на которые Церковь должна найти ответы. Необходимость реформ была очевидна и в высшем эшелоне власти, и согласно Высочайшему указу от 16 января 1906 года учреждалось Предсоборное присутствие – орган, ответственный за подготовку Поместного собора, и началась работа по его организации. Затем в 1912 учреждается впредь до созыва самого собора Предсоборное совещание, в более ограниченном составе, чем Присутствие, для решения текущих задач подготовки, председателем которого был утверждён архиепископ Финляндский Сергий (Старогородский).
12 марта 1917 года всеобщая забастовка перерастает в вооружённое восстание, 14 марта в Москве устанавливается новая власть, 15 марта от престола отрекается император Николай II. Синод в самом начале отказывается занять чью бы то ни было сторону, выражая молчаливую поддержку новой власти, а затем выражает её и гласно, установив её поминовение на богослужении. 17 марта на открытом заседании Синода уже присутствует новый обер-прокурор – князь В. Н. Львов, от лица Временного правительства объявляющий о предоставлении «Святой Православной Российской Церкви полной свободы в её управлении». Государство стало чем то иным, изменились общественные отношения, Церковь переставала быть государственным ведомством и получала право сама определять, как она будет существовать. Откладывать созыв Поместного собора более было нельзя, потому как он и должен был определить вектор движения Церкви обновлённой России в новых условиях и в новом качестве. 29 апреля 1917 года Синод одобряет проект обращения к духовенству и чатам Церкви, гласивший: «Давно уже в умах православных русских людей жила мысль о необходимости созыва Всероссийского Поместного Собора для коренных изменений в порядке управления Российской Православной Церкви и вообще для устроения нашей церковной жизни на незыблемых началах, данных Божественным Основателем и Главою Церкви в Священном Писании и в правилах св. Апостолов, св. Вселенских и Поместных Соборов и св. Отец. Происшедший у нас государственный переворот, в корне изменивший нашу общественную и государственную жизнь, обеспечил и Церкви возможность и право свободного устроения. Заветная мечта русских православных людей теперь стала осуществимой, и созыв Поместного Собора в возможно ближайшее время сделался настоятельно необходимым». 15 августа работа Собора началась.
Этот собор по количеству своих деяний, масштабности, глубине поднимаемых вопросов и решаемых задач представляет собой совершенно особое явление, несопоставимое и превосходящее все предыдущие наши соборы, изучаемое до сих пор. Он ещё только подлежит глубокому анализу, изучению и рецепции. Представитель от Александровской (на тот момент являвшейся частью Владимирской и Шуйской) епархии в работе Собора принял особое участие. Преподобный Алексий, затворник Зосимовский, был избран тянуть жребий на выборах первого после двух веков пленения Церкви Патриарха Всероссийского. Ввиду неординарности личности преподобного, стоит рассмотреть его жизненный путь подробнее.
Отец его, Алексей Петрович Соловьёв, родился в 1804 г. в г. Дмитрове Московской области в семье священника. Обладая незаурядными способностями, после обучения в духовном училище он поступил в Вифанскую семинарию при Вифанском ските Троице-Сергиевой лавры (ныне – Спасо-Вифанский монастырь Сергиево-Посадской епархии). Окончив её первым учеником, Алексей Петрович сразу же был принят в духовную академию, где за особые успехи в обучении получил именную стипендию митрополита Санкт-Петербуржского Михаила (Десницкого), и он получил двойную фамилию – Соловьёв-Михайлов. Успешно завершив учёбу и получив степень магистра, был принят в Вифанскую семинарию на должность профессора всеобщей гражданской истории и немецкого языка, где проработал пять лет. В 1837 году Алексей Петрович женился на Марии Фёдоровне Протопоповой – дочери настоятеля храма Троицы Живоначальной на Пятницком кладбище в Москве, и по настоянию жены перебрался в город. В Москве он был рукоположен и служил в храме свщмч. Димитрия Солунского на Тверской, а затем в храме свщмч. Димитрия Солунского за Яузой, где прослужил 44 года. Отец Алексий был очень образованным человеком, собирал богатую библиотеку, значительную часть которой составляли труды на немецком языке, в том числе и труды немецких христианских учёных и пасторов, стоявших тогда на первых позициях в рейтинге богословской науки и библеистики. По этой причине его собрание впоследствии было передано в Московскую епархиальную библиотеку. Также отец Алексий преподавал в 3-й мужской гимназии и в Практической академии, где обучались дети московских купцов и промышленников. Он был не только прекрасным священником, выдающимся и образованнейшим педагогом, но и воспитателем, устанавливавшим с учениками очень тёплые отношения. Многие из его учеников становились также его духовными чадами, а не становившиея регулярно его навещали. Отец Алексий был очень добрым, кротким и мягким человеком, диакон, служивший с ним, характеризовал его так: - он относился к нам, как Бог к ангелам.
В семье этого замечательного человека 17 января 1846 года рождается сын Фёдор. С малолетства он отличается спокойным характером и большой привязанностью к отцу, который старается передать ему все свои лучшие качества. С ранних лет у Фёдора обнаруживается талант к музыке и он быстро осваивает игру на рояле и начинает петь в церковном хоре, обладая не только хорошим слухом, но и голосом, как и отец, а также он нёс в отцовском храме послушание пономаря. В восьмилетнем возрасте их семью постигает горе – умирает жена отца Алексия. Фёдору тогда было 8 лет.
Впоследствии, следуя по отеческому же пути, будущий преподобный поступает в Андрониевское духовное училище, а после него – в Московскую духовную семинарию. Учёба давалась ему нелегко и отнимала почти всё время, однако он окончил её по первому разряду, вторым в списке выпускников. Несмотря на открытую перспективу обучения в Академии, Фёдор отказывается от поступления, мотивируя это отсутствием призвания к богословской науке и желая служить простым приходским диаконом.
По окончании учёбы в 1866 г. Фёдор делает предложение Анне, дочери Павла Смирнова, клирика храма святителя Климента, Папы Римского, на Варварке. Отец Анны Павловны скоропостижно умирает летом 1866 г., и свадьба откладывается на 12 февраля 1867 г., а 19 февраля Фёдора рукополагают во Диакона в Чудовом монастыре. Митрополит Филарет, его бывший семинарский преподаватель, назначает Фёдора диаконом храма святителя Николая в Толмачах. После назначения супруги поселились в церковном доме в Толмачёвском переулке. Настоятелю и прихожанам новый диакон пришёлся по душе своей скромностью, отзывчивостью, почтительным отношением и благочестием. Семейная жизнь у него также складывается благополучно и стройно. 23 июля 1868 года в семье отца Фёдора и Анны Павловны рождается сын Михаил. Но уже в 1872 году Анна заболевает и умирает. В январе того года она получает приглашение в гости и отец Фёдор, желая остаться дома, отказывается её сопровождать. По пути Анна Павловна попадает в яму с водой припорошенную снегом, и простужается. Простуда затем переходит в чахотку, которая быстро источает силы супруги отца Фёдора. Впоследствии он очень корил себя за то, что отпустил её одну. В этот период он пишет стихотворение, выражающее его состояние и духовные устремления:
Бегу ли прочь я от трудов?
Нет, к ним-то я и поспешаю,
От них я дорогих плодов
Себе навеки ожидаю.
Где то убежище святое,
Где я в безмолвии, в тиши,
В усилиях отсечь все злое
Трудиться буду для души?
Да там, где есть уже немало
Горе имеющих сердца,
На долю коих так же пало
Носить свой траур до конца.
В пустыне мрачной среди бора
Обитель мирная стоит;
Молитва в стройном гласе хора
От ней к Всевышнему парит.
Боголюбезная обитель,
Хочу вселиться я в тебе, Но как я немощен!. Спаситель,
Всели Дух прав в Твоем рабе!
Пошли мне свыше помощь, Боже,
В борьбе душевной и труде,
Подай мне, что всего дороже
И в сей пустыне и везде.
Не с тем от мира удаляюсь,
Чтобы людей совсем забыть, Но чтоб, ничем не отвлекаясь,
За них и за себя к Тебе молить.
Видя подавленное состояние отца Фёдора, настоятель, чтобы расшевелить его и занять его мысли чем-то другим, загружает его работой в редакции журнала «Душеполезное чтение», где тот проникается интересом к литературной деятельности и начинает сам писать статьи, выходившие как в журнале, так и отдельными брошюрами. Кроме служения и редакционной работы, он принимает участие вместе с будущим святым праведным Алексием Мечевым, тогда ещё диаконом, в т.н. «народных чтениях», а также безвозмездно преподаёт Закон Божий в сиротском приюте, частном приюте Смирновой и по домам прихожан, в том числе известного славянофила Ю. Ф. Самарина. Он тогда жил в доме графини Соллогуб, и в деятельности этого кружка принимали участие и другие заметные славянофилы: князь Черкасский, Аксаков, Сухотин, братья Васильчиковы, Бутурлины, князь Оболенский, а впоследствии и известный русский философ Соловьёв. Позднее старец Алексий с теплом вспоминал эти встречи и имевшие в них место интереснейшие беседы.
В мая 1895 года митрополит Московский Сергий вводит в Успенском соборе Московского кремля древнее столповое пение, и, зная о прекрасных вокальных данных толмачёвского диакона Феодора, переводит его туда и рукополагает во пресвитера 8 июня 1895 года. Так он оказывается священником главного собора России. Через два года он единогласно избирается духовником соборного причта, а ещё через год возводится в сан протопресвитера. Отец Фёдор получает хорошую квартиру на Воздвиженке и, хоть и был всегда гостеприимным хозяином, начинает тяготиться столичной жизнью, походами в гости и приёмом гостей, однако не может оставить находившихся на его попечении тёщу, свояченицу и сына Михаила, который учился в инженерном училище. Однако в апреле 1897 года тёща умирает, свояченица умирает, а сын оканчивает учёбу и женится на дочери богатого лесопромышленника Мотова. Более ничто не удерживало будущего святого от реализации его плана.
Овдовев, отец Феодор начинает думать о принятии монашеского пострига и намечает себе целью удалиться в скит Параклит возле Троице-Сергиевой лавры (ныне пос. Смена). Он был известен своей строгостью и создавался для насельников Гефсиманского скита, желающих полностью погрузиться в безмолвие и уединение. 1 июня 1897 года он едет туда со своим племянником, семинаристом Николаев Беневоленским. Там ему очень нравится, он общается с игуменом и получает принципиальное согласие принять его в пустынь. После этого отец Феодор возвращается в Москву и в начале августа едет обратно в пустынь, чтобы окончательно переговорить с игуменом и просить зачислить его в число братии. Преподобный прибывает в Сергиев Посад и идёт в лавру приложиться к мощам преподобного Сергия, чтобы получить благословение. Затем он купил себе чётки в церковной лавке возле Свято-Духовского храма, и держа их в руке на площади перед лаврой встретил своего знакомого иеромонаха Товию. Тот, увидев чётки, поинтересовался, уж не думает ли он о монашестве? Отец Феодор отвечает уклончиво и, провожаемый приятелем, нанимает извозчика до Параклита. Тот, услышав место назначения, повторно интересуется, не собрался ли его друг поступить в монастырь? И получает наконец утвердительный ответ. На что отец Товия не рекомендует ему туда поступать, так как там отвратительный климат и отцу Фёдору с его ревматизмом там будет очень плохо. Затем он предлагает ему Козелыцанскую пустынь, но тот отвергает предложение, так как не желает далеко уезжать от сына. И тогда тот предлагает ему поехать в Зосимову пустынь на станцию Арсаки. Извозчик повернулся к нему и предложил отвезти на станцию, так как в самое ближайшее время должен был как раз отправляться туда поезд. Там, на станции он встретил иеромонаха Германа (будущего преподобного схиигумена Германа Зосимовского), который ехал по делам обители в Москву. Тот представился сторожем, но просил дождаться его в монастыре. На следующий день они встретились и отец Феодор рассказал ему свою историю, спросив затем, примут ли его в Зосимову пустынь? Игумен сказал, что не примет, так как жизнь у них простая и убогая, и это вовсе не тот путь, который подходит столичному протопресвитеру. Отец Феодор сказал, ему, что ищет уединения и хотел податься в Параклит, но ему никак невозможно жить в такой сырости из-за ревматизма. Тогда игумен спросил его: - а что самое главное для инока? Отец Фёдор ответил: - смирение. Лицо игумена от этого ответа просияло, и он тихо сказал: - да, он из наших.
Вернувшись в Москву отец Феодор начинает процесс перевода в монастырь, но получает разрешение на постриг лишь через год. Протопресвитер Фёдор Соловьёв ушёл из Успенского собора в октябре 1898 года, прослужив в нём три года и четыре месяца.
Преподобный Алексий жил до ухода в затвор в не сохранившемся до наших дней маленьком домике на территории монастыря. Игумен по первости стал испытывать смирение отца Алексия, и поэтому вначале ему жилось нелегко. Первыми его послушаниями были клиросное пение и совершение богослужений. Его специально ставили ниже всей братии и давали самое плохое облачение. Однако, его определили духовником и освободили от тяжелых физических работ. Регент хора, иеромонах Нафанаил, также создавал преподобному непростые условия, будучи нервным и беспокойным человеком. Отец Алексий встал впервые на клирос и стал петь по-соборному. Отец Нафанаил прервал его и резко стал выговаривать, что это не Успенский собор и здесь реветь нельзя. Отец Алексий стал смиренно просить прощения у Нафанаила, о чем тот потом с умилением вспоминал.
Духовником Алексия стал сам игумен, преподобный Герман и, раскрыв качества его души, настороженность сменилась уважением, а затем и большой любовью. Постепенно увеличилось у преподобного Алексия и количество исповедников: вместо старушек-богомолиц, приходивших к нему первое время, его духовными детьми стали многие молодые монахи, а через несколько лет его духовничество распространилось и на самого игумена Германа. Клиросное послушание ему отменили и поручили учить молодых монахов Закону Божию. Ученики очень полюбили его и порой засыпали вопросами, и старец проводил с ними время с восьми часов вечера до самой полуночи, пока не переговорит с каждым и не ответит на каждый вопрос. Узнав об этом, игумен велел сторожу в десять часов приходить и прогонять всех, чтобы старец мог отдохнуть, но после этого монахи вновь собирались к старцу в келью, и он их всегда принимал, сидя с ними порой до часа ночи. Старец относился к каждой личности с большим уважением и не считал зазорным для себя просить прощения, в том числе и прилюдно, если оказывался перед кем-то неправ. Однако к ученикам он был строг и требовал в точности повторять то, что он преподавал. Первые годы пребывания в монастыре отца Алексия братия считала для себя за счастье, так как посторонний народ почти не бывал в пустыни, и старец безраздельно принадлежал братии. Однако, молва о нём пошла далеко за пределы обители, и к нему стало приезжать всё больше и больше народа. Осаждаемый исповедниками, преподобный стал изнемогать и его здоровье пошатнулось, весной 1906 года он заболел крупозным воспалением лёгких и игумен попросил перенести старца в игуменские покои, так как помещение, где он хил, было сырым и холодным. Преподобного соборовали в великий четверг при всей братии, которые подходили к нему проститься, так как доктор утверждал, что старец вполне может не пережить болезни. Однако после соборования он пошёл на поправку. Основным послушанием его стало старчество и духовничество. 17 февраля 1906 года скончался старец Варнава из Гефсиманского скита и многие из его чад стали обращаться за помощью и поддержкой к отцу Алексию.
Вновь старец стал принимать людей, когда вполне оправился от болезни и переселился в избушку-келлию, специально для него построенную. Вначале к нему потянулись преподаватели и студенты Московской духовной академии, жившие в Сергиевом посаде, затем их друзья и знакомые. Игумен Герман, увидев, как много людей стало приходить к старцу, освободил его ото всех послушаний, кроме духовничества, и это стало главным делом монашеской жизни преподобного. Однако, старец всегда помнил о своей цели прихода в монастырь – затвор, молитва и безмолвие. 3 февраля 1908 года старец ушёл в полузатвор, вначале временно, до Пасхи. Вход в его избушку был закрыт для всех, кроме семейства сына. Даже братия могли входить в его избушку лишь для откровения помыслов в определённые часы по пятницам. Исповедников старец стал принимать лишь в церкви по субботам и воскресеньям. В июле 1908 году распоряжением наместника лавры (так как пустынь являлась приписным её монастырём) полузатвор старца был продлён и уточнён его режим. Однако, это лишь увеличило известность старца, и его известность среди людей, ищущих духовного окормления, стала экспоненциально увеличиваться. К нему стикались государственные деятели, архиереи, монашествующее и белое духовенство, представители всех слоёв населения. Среди его духовных чад была и великая княгиня Елизавета Фёдоровна, основательница Марфо-Мариинской обители сестёр милосердия, и матушка Фамарь, основавшая в 1908 году ставший известным Серафимо-Знаменский скит под Москвой. Старца навещали также и слены известного в те годы религиозно-философского кружка, основанного М. А. Новосёловым: Сергий Булгаков, Павел Флоренский, Михаил Дурново и др. Со временем количество принимаемых старцем людей ограничили 110 людьми в течение двух приёмных дней в неделю. В январе 1916 г. отцу Алексию исполнилось 70 лет и он стал одолевать игумена просьбами об удалении в полный затвор. Наконец, игумен сдался. Старец написал прошение, и вскоре в обитель неожиданно для всех в обитель лично явился недавно назначенный наместник лавры архимандрит Кронид с указом о дозволении старцу Алексию удалиться в полный затвор с 14:00 6 июня 1916 года. 15 июля 1917 года в Троице-Сергиевой лавре открылся Предсоборный монашеский съезд Московской епархии. По личной просьбе митрополита Тихона старец Алексий принимал в нём участие и был избран членом Поместного собора. На период проведения Собора старца поселили в Чудовом монастыре, где он был когда-то рукоположен. Два с половиной месяца продолжались кропотливые заседания Собора, каждое из которых посещал старец. Он ездил в епархиальный дом в Лиховом переулке на повозке с митрополитом Платоном, иногда с митрополитом Михаилом, а порой и просто на трамвае. В октябре 1917 года произошла новая революция, и старец с другими соборянами перебрался жить в подвалы Чудова монастыря, скрываясь от смертельной опасности. Старец посещал заседания несмотря ни на что, даже слыша кругом стрельбу. В один из дней начался обстрел арсенала, и во время пристрелки снаряды попадали по Чудову монастырю. Во время совершения Литургии один из снарядов влетел прямо в Алексиевский храм через окно. Ожесточённое сражение в центре Москвы велось пять дней, с 27 октября по 2 ноября. Вёлся непрестанный обстрел Кремля из тяжёлых орудий. Часть членов Собора неделю скрывались в подвалах, молясь и ощущая себя как первые хистиане в катакомбах.
Вследствие событий конца октября 1917 года было решено безотлагательно восстановить в России патриаршество. Избрание патриарха было назначено на воскресенье 5 ноября в храме Христа Спасителя. 30 октября избрали трех кандидатов в патриархи: архиепископа Харьковского и Ахтырского Антония (Храповицкого), он получил наибольшее количество голосов и был назван – «самый умный», архиепископа Новгородского и Старорусского Арсения (Стадницкого) – «самый строгий» и митрополита Московского Тихона (Беллавина) – «самый добрый». Избрание патриарха должно было решиться жребием. Вынуть жребий поручили нашему дорогому старцу-затворнику Зосимовой пустыни иеромонаху Алексию. Для наблюдения за избранием была создана избирательная комиссия из семи человек во главе с протопресвитером Большого Успенского собора Николаем Любимовым. Руководил чином избрания старейший и всеми уважаемый митрополит Киевский и Галицкий Владимир.
В воскресенье, 5 ноября, огромный храм Христа Спасителя, вмещающий двенадцать тысяч молящихся, был переполнен. В храме царило напряженное волнение. Служил торжественную литургию старейший иерарх Русской Церкви митрополит Киевский Владимир соборно с несколькими иерархами. Ни одного из трех кандидатов в храме не было. Перед началом богослужения владыка в алтаре написал на жребиях (пергаментах) имена кандидатов на патриаршество и положил в специальный ковчежец, который запечатал сургучной печатью. Затем этот ковчежец был установлен на солее слева от Царских врат на специальном тетраподе перед малой Владимирской иконой Божией Матери. Во время литургии из Успенского собора была принесена чудотворная икона Божией Матери «Владимирская», заступница Москвы и России, и установлена на тетраподе. По окончании Божественной литургии из алтаря вышел молившийся там старый монах, весь в черном, с клобуком и длинной мантией. Совершенно белые кудри волос выбивались из-под клобука и окаймляли его бледное и очень серьезное лицо... Это был наш старец Алексий. Встав перед хорошо известной ему и любимой иконой, он стал усердно молиться и изредка клал земные поклоны. В это время в храме служили особый, торжественный молебен, в котором просили Господа даровать Русской Православной Церкви так необходимого ей доброго и мудрого пастыря.
«Все с трепетом ждали, кого Господь назовет... По окончании молебна митрополит Владимир подошел к аналою, взял ларец, благословил им народ, разорвал шнур, которым ларец был перевязан, и снял печати... Старец Алексий трижды перекрестился и, не глядя, вынул из ларца записку. Митрополит Владимир внятно прочел: „Тихон, митрополит Московский». Словно электрическая искра пробежала по молящимся... Раздался возглас митрополита: «Аксиос!», который потонул в единодушном «Аксиос! Аксиос!» духовенства и народа. Хор вместе с молящимися запел: «Тебе, Бога, хвалим» Ликование охватило всех. У многих на глазах были слезы. Чувствовалось, что избрание патриарха для всех радость обретения в дни русской смуты заступника, предстоятеля и молитвенника за русский народ... Всем хотелось верить, что с патриархом раздоры как-то изживутся...» (митр. Евлогий Георгиевский, «Путь моей жизни. Воспоминания»).
Старец впоследствии перебрался в квартиру своего сына, так как жить в Кремле сделалось невозможным, а на Пасху 8 апреля собор закрылся. Он продолжил свою работу, но уже без участия старца, который удалился в обитель, чтобы продолжить свой монашеский подвиг в затворе. Жизнь в обители продолжалась своим чередом, но страна опять мучительно изменялась. Старец периодически получал вести о гонениях, расстрелах, арестах, и осмысливая всё это, решил усилить свой молитвенный подвиг и принять великую схиму. 28 февраля 1919 года иеромонах Алексий был пострижен в схиму с прежним именем, но покровителем его стал уже не Алексий Московский, а святой праведный Алексий, человек Божий. 22 октября 1919 года от сыпного тифа скончался сын старца Михаил Фёдоровч. В конце 1920 года Зосимова пустынь, в духе новых изменений, была преобразована в трудовую артель, однако братия продолжила своё делание. 18 января 1923 года скончался игумен Герман. Тогда же братия получает известие о скором закрытии обители в числе прочих монастырей Александровского уезда. На следующий же день после похорон схиигумена Германа приехала комиссия из Александрова с целью ликвидации монастыря. У насельников были изъяты серебряные оклады с икон и иные ценные вещи, а затем насельники были изгнаны. Преподобный Алексий уехал в Сергиев Посад, без крова и средств к существованию. Там их приютила одна из духовных дочерей старца. 19 сентября/2октября н.ст. 1928 года старец с утра, по обыкновению, причастился Христовых Таин, и скончался в 16:20 часов.
Дорогие братья и сестры!
Продолжается отопительный сезон. В это время сильно возрасли расходы на оплату коммунальных платежей (газ и электроэнергия). Сумма ежемесячных платежей в зимнее время состаляет более 150 000 рублей и мы особенно нуждаемся в вашей помощи и поддержке.
Пожертвование можно сделать на банковский счет монастыря или на карту МИР, реквизиты которых указаны в разделе "Контакты".
Братия обители молится о всех жертвователях.
_______________________
Территория монастыря открыта для посещения паломниками ежедневно, в будние дни с 5.30 часов, в дни когда служится Божественная литургия с 7.00 часов.
Ворота монастыря закрываются по окончании вечернего богослужения.
_______________________
Монастырь примет мужчин, стремящихся к монашеской жизни, в качестве трудников, с последующим, возможным, принятием в братию обители.
Основные требования:
возраст от 18 до 50 лет,
наличие паспорта (подлинник)
отсутствие алкогольной или наркотической зависимостей,
состояние здоровья не препятствующее физическому труду.
Дополнительную информация можно получить в канцелярии монастыря по тел. +7(910)172-64-31 (МАХ)
___________________
Обращаем ваше внимание на то, что монастырь более не использует для связи мессенджеры Вотсапп и Телеграмм. Позвонить или написать в монастырь можно на номер мобильного телефона или через мессенджер МАХ.
Напоминаем, что монастырь отвечает на звоки и сообщения ежедневно (кроме воскресений и двунадесятых праздников) с 9.00 до 16.00 часов (суббота и предпраздничные дни до 14.00 часов).
_____________________
Священнослужители монастыря совершают требы на дому только в пределах бывшего военного городка.
Для совершения треб в соседних населенных пунктах следует обращаться в ближайшие приходские храмы.
Таинства Крещения и Венчания в монастыре не совешаются.
_____________________
Подробнее о жизни обители вы можете узнать на странице монастыря в ВКонтакте.

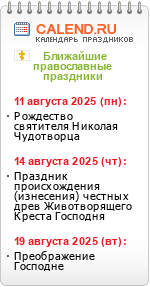
Монастырь в социальных сетях:

